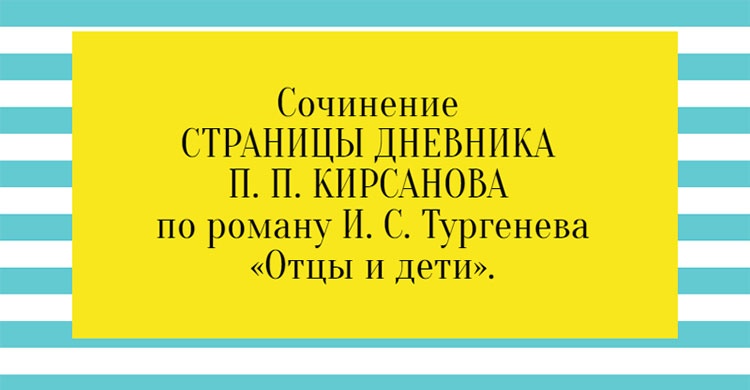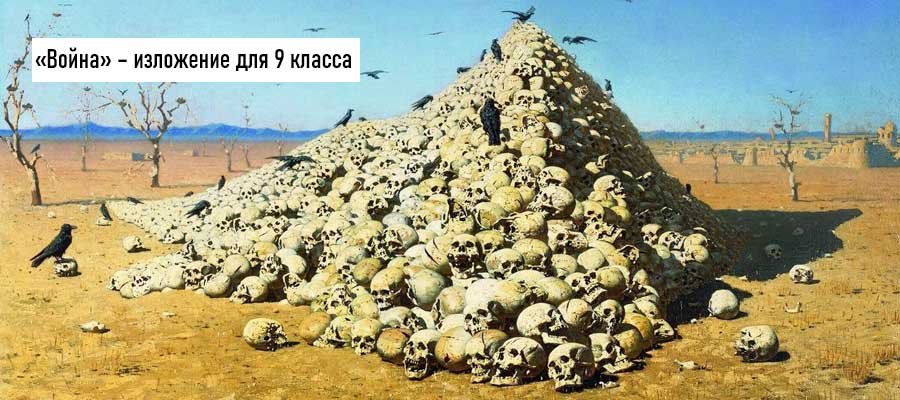Перед вами текст изложения по русскому языку «Лакомое блюдо». Текст предназначен для учеников 9 класса.
Лакомое блюдо
Бабушкина душа ликовала, когда я отправлялся в библиотеку. Она обожала мои превращения в тихую мышь.
В библиотечном закутке, в комнате, дверь в которую волшебно распахивалась прямо на полированной стене, хранилась особенная тишина, настоянная на сладковатом запахе старых книг.
Эта тишина была вкуснейшим блюдом, которое надо есть не торопясь, с наслаждением, а приправой к блюду пряной тишины был звук щелкающих и рассыпающихся угольев и приглушенный голос библиотекаря Татьяны Львовны за стеной.
На столе в комнатушке лежали драные-передранные книги, и мне надлежало склеивать рваные страницы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом оборачивать книгу в газету.
Одетую мной книгу Татьяна Львовна признала образцовой, и я, уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновленный похвалой, свои образцы. Благоговейная тишина и запахи книг и клея оказывали на меня магическое действие. Я прочитал пока что ничтожно мало, зато всякий раз именно в этой тишине книжные герои оживали, и не только! Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дому, а именно здесь, в тишине закутка, со счастливой охотой, точно играя в поддавки, зримо представали передо мной яркие, расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев.
Кем я только не был!
И Филиппом из рассказа графа Льва Толстого. Правда, я при этом умел замечательно и с выражением читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я с выражением шпарил все слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. Я улыбался — и въявь, и в своем воображении, будучи маленьким Филиппом, — утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке, и вообще поражал присутствующих.
Конечно, я представлял себя царевичем Гвидоном, сыном Султана, и опять менял действие сказки Пушкина, потому что поступал, на мой взгляд, разумнее: тяпнув в нос или в щеку сватью бабу Бабариху, я прилетал к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и доброму Султану, что к чему в этой затянувшейся истории.
Или я был Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом краю баррикады. Я отбивал чечетку на каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а пули жужжали рядом, и ни одна из них не могла задеть меня. Я отступал вместе с коммунарами и прятался в проходных дворах, потом садился на судно, которое шло в Ленинград, а дальше поездом ехал в родной город и оказался здесь, в библиотеке, и от меня еще пахло порохом парижских сражений.
Исправляя известные сюжеты, я замирал. Глаза мои, наверное, останавливались, потому что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивленные взгляды, может, и рот у меня открывался — одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но еще и уходил из этой. И чтобы окружающие не таращились на меня, я предпочитал оставаться совершенно один, как тут, в закутке. Вот такие чудеса делали со мной книги.